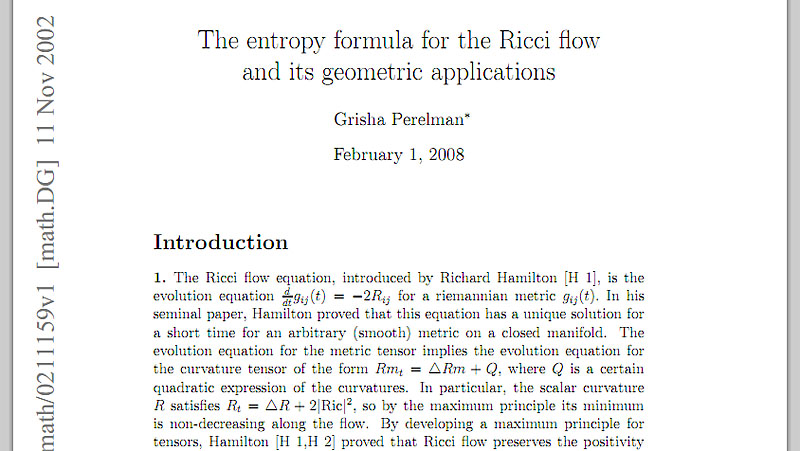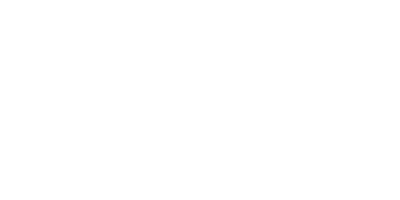Когда вы начали заниматься фотографией?
Достаточно поздно, я считаю. В конце 1988 года, мне было 24 года, и я практически не имел никакого представления о фотографии. Но благодаря знакомству с некоторыми казанскими фотографами, я быстро понял, что с помощью фотографии можно не только интерпретировать события, явления, но и выражать свои собственные мысли, наблюдения. Все то, или почти все, что можно было сказать словами, написать на бумаге, то можно некоторым способом передать и через фотографию, используя определенные алгоритмы. Я увлекся этим процессом больше, чем самой фотографией и стал учиться своеобразному «визуальному языку общения» или, как сейчас говорят, одному из методов визуальной коммуникации. Если зрители или коллеги понимали мои фотографии в том смысле, который я в них закладывал, то я приходил в полный восторг. Это поддерживало, конечно. Но, честно говоря, было несложно понять меня самого и мои фотографии.
Когда к вам в руки попала первая камера?
Достаточно рано. Лет в семь-восемь. К вашему сожалению это была не Лейка, но должен признаться, что это была «плохая копия Лейки» – фотоаппарат ФЭД (Феликс Эдмундович Дзержинский) – камера моего отца. Он привез ее с Тихоокеанского флота. Вместе с камерой было множество фотографий военных моряков. Мне очень нравились эти фотографии. На них люди были в широких штанах-клешах, в каких-то «легкомысленных бескозырках», в бушлатах и в тельняшках. Люди были какие-то другие. Похожие на чаек. Более свободные что ли. Я же жил в центре материка и никогда не видел моря и моряков, был совсем мальчиком и для меня это была жуткая романтика. Странно, но тогда я не отождествлял эти фотографии с отцовской камерой. Мне казалось, они существуют независимо друг от друга. Однажды я собирался в экспедицию на Обь-Енисейский канал, организованную школой, и для этого принес отцовский фотоаппарат директору школы. Он там пролежал некоторое время, а потом его украли. Но фотографии, на которых «люди как чайки», сохранились до сих пор.
Когда вас впервые заинтересовала техника Leica?
Будучи уже при занятиях профессиональной фотографией. Мне кажется, Ляля Кузнецова впервые обратила мое внимание на Лейку как «специальную камеру». Кажется, в 1991 году у меня появилась первая М3 с 35 объективом. Я всегда снимал парой камер. Причем разных. Этот своего рода «дуализм» во мне жив до сих пор. Я не фанатик камер и меня в камере интересуют только ее возможности самовыражения автора. Не более того. Я мог бы снимать одним глазом, например, и вообще без камеры, если бы это было возможно. Скорее на меня больше влияет эстетика самой камеры, чем ее технические возможности. Знаете, особенно фоторепортеры очень любят показывать свои навороченные камеры друг другу. С такими вот большими линзами. Стоят где-нибудь в сторонке кружком и как мальчики демонстрируют друг другу… А если у тебя Лейка, то тебя в этот кружок не берут в том числе потому, что обладатель подобной камеры проповедует иную эстетику съемки, чем сугубо репортерскую «пришел – увидел – победил». Я знаю фотографов, которые чуть ли не постоянно носят с собой Лейку, но практически ее не используют в своей работе. Дело в том, что классическая Лейка выглядит не только по-другому, но и по-другому принуждает работать фотографа. И дело вовсе не в технических особенностях или удобствах, современные камеры более или менее все соответствуют определенному техническому стандарту. Дело в самой камере. Мы не можем сказать о ее душе, но мы можем говорить об ее эстетике.
В этом смысле я могу понять почти «официальные соревнования» между Кэноном и Никоном потому, что они принадлежат к одной «весовой категории», но Лейка в этих спорах больше выглядит «третейским судьей», чем участником дискуссии «кто круче». В этом особенность ее характера, если можно так сказать. При всей своей дороговизне, Лейка – скромная камера, но с сильным характером. В этом ее ценность и шарм, а вовсе не потому, что у нее там «шторка» по-другому прыгает или матрица какая-то особенная.
Кого вы можете назвать своими учителями?
На этот вопрос некоторые известные мне фотографы пафосно отвечают, что «моим учителем была жизнь». Смешно, но в этом тоже есть доля разума. В какой-то мере, например, я считаю своими учителями и Горбачева, и Сахарова. Они оказали на мою индивидуальность огромное влияние. Может быть, даже больше, чем коллеги-фотографы, в том числе на мою фотографию… потому что благодаря им я стал думать о свободе, например, – необходимом качестве для фотографа и вообще для любого человека. Я встречал их лично. Я говорил с ними. Видел их по телевизору. Следовательно, я учился у них. Почему они не могут быть моими учителями? Или, знаете, я до сих пор помню анекдоты и шутки профессора математики в Казанском университете и вместе с тем, я помню речь Линкольна на открытии Геттисбергского кладбища. Они могут быть моими учителями? – неважно. Важно, что могу быть их учеником. В этом ответ.
Конечно, с точки зрения журналистики, очень сильное влияние было со стороны Хуберта Смеетса – моего друга и голландского журналиста. В общем-то он привил мне практически все качества свободного журналиста. Главный редактор «Вечерней Казани» Андрей Гаврилов всей своей противоречивой личностью учил меня видеть главное в «советской и перестроечной журналистике». Я очень признателен ему за доверие, которое он мне оказал, и за его любовь к профессии. Просто достаточно было видеть, как он любит свою газету, и в этом был весь смысл его как учителя. Все это по части независимости и свободы.
Что касается света и его отражения на плоскости, я тоже учился у многих. В начале это была группа «Тасма» в Казани, такие фотографы, как Ляля Кузнецова, Фарит Губаев, потом в Москве – Владимир Сёмин и Валерий Щеколдин. От каждого было разное влияние или образование. От одних – только через фотографию, от других – от прямого общения и дружбы. Мне вообще-то очень повезло не только со временем, но и с людьми. Я застал поколение отечественных военных фотографов и достаточно активно общался с ними лично и через их фотографию. Но в тоже время я никогда не был ограничен рамками отечественной фотографии. Например, учился в голландской газете в Роттердаме и был не только лаборантом, но и городским фоторепортером, а моим первым фоторедактором был Ариен Риебенс. Первым, в том смысле, что его советы и наставления я впервые понял и до сих пор пользуюсь ими, несмотря на то, что современная фотография значительно изменилась за последние годы и изменился состав ее фотографов.
Конечно, очень важно было, какие фотографии ты смотришь и, таким образом, у кого учишься. Моим кумиром, например, никогда не был Картье-Брессон, как во всей группе «Тасма», мне казалась его фотография слишком рациональной и продуманной. Понятно, меня больше вдохновлял Роберт Капа со своей экспрессией. Но все это какие-то этапы, достаточно короткие. Потом появлялись другие фотографы, другие имена и опять уходили. А потом вдруг кумиров не стало. Можно, конечно, иронизировать и сказать, что ты сам себя стал чувствовать кумиром. Но это не так. Просто наступает в какое-то время «визуальное насыщение» и в этот момент очень важно задать себе вопрос, что ты, черт возьми, сам-то готов сделать? И ты начинаешь делать. Или ничего не делаешь…
Недавно вы совершили поездку по Сибири вместе с Владимиром Сёминым и участвовали в съемке документального фильма. Расскажите об этом проекте?
Нет лучше способа учиться фотографии, чем наблюдать за работой другого фотографа. Конечно, вас научат проявлять пленку, печатать фотографии, разбираться в камерах, работать в фотошопе и прочему, но вас не научат главному – ощущению бытия, которое вы должны пережить и переложить на плоскость фотографии. Я не знаю, что здесь больше работает: знание или интуиция. Но из этих ощущений реальности, просто жизни, всего чего хотите, складывается мировоззрение фотографа. Шаг за шагом. Отражение этого мировоззрения на плоскость и есть творческая фотография. Поэтому идеей проекта «Жизнь будет фотографией» (фильмы об отечественных фотографах) как раз является «рассказ о мировоззрении» фотографа. Мы сняли первых три фильма о Валерии Щеколдине, Ляле Кузнецовой и Георгии Колосове, в процессе производства находятся фильмы об Александре Слюсареве и Владимире Сёмине. По правде сказать, у нас был очень скромный бюджет, который был взят из моего «дырявого кармана», так как другой возможности просто не было. Например, я мог снять один-другой репортаж и потратить эти деньги на съемку фильма. Сбережений у меня просто нет. Во всем остальном нам помогали друзья, понимая обстоятельства и необходимость этой работы.
Когда мы попытались продать эти фильмы, то получилось так, что мы много тратили денег и времени на почтовые пересылки практически индивидуально для каждого потому, что прекрасно понимали, что это фильмы не для всех, но если есть желающие, мы считали своим долгом отправить даже одну копию во Владивосток и одну копию в Узбекистан. Расходы, понятно, превышали доходы. Катя Богачевская (оператор) в Петербурге ездила каждый день на почту и отправляла во все концы бывшего Союза эти фильмы. Мы пошли на такого рода «бизнес» опять-таки из-за обстоятельств нашего мировоззрения потому, что чувствовали некую ответственность за то, что мы делаем важное и необходимое дело, и что кроме нас этим никто не будет заниматься сейчас, а потом будет поздно. Просто потому, что фотографы тоже умирают. Честно говоря, я несколько раз хотел бросить этот неблагодарный проект во всех отношениях, но всегда кто-то был рядом, кто во время говорил мне: «Чувак, это надо просто сделать» – и я почему-то верил этому. Ну и, конечно, письма, которые мы получали со всей страны, они очень поддерживали нас, по-другому, чем деньги.
Однажды я печатал свои фотографии на принтере в офисе Лейки и рассказал руководству эту историю. И, черт возьми, они просто сказали: «Давай мы тебе поможем». Результатом этого разговора и стало продолжение съемки фильмов. В то время Сёмин собирался делать «сибирский проект» и специально приехал в Россию из Нью-Йорка, мы с нашей скромной съемочной группой присоединились к нему. Я думаю, это будет достаточно уникальный фильм, который просто необходимо посмотреть не только фотографу, но и любому, для кого жизнь человека не является простой фразой. Эти фильмы, в общем-то, о лучших отечественных фотографах, о целом поколении, когда наша фотография только начинала формироваться за счет индивидуального мировоззрения, а не в угоду пропаганде того или иного режима и уж точно не в угоду моде, как это происходит в сегодняшней фотографии.
Вы знаете, можно потратить всю жизнь в поисках спонсоров и ничего не сделать для бессмертия, как должен был бы сказать Дон Карлос, словами современного Шиллера. Я имею ввиду, что проблема в том, что участие коммерческих структур в такого рода проектах в нашей стране до сих пор практически маловероятна потому, что в большинстве своем наши бизнес-структуры зациклены только на добывании «прибавочной стоимости» или простой, но эффективной саморекламе для своей компании за счет каких-то некоммерческих проектов, суть которых, очень часто просто абсурдна, но позволяет компании малыми расходами достичь высокого уровня рекламы. Я это говорю к тому, что речь, чаще всего, не идет о так называемой «социальной ответственности бизнеса», а соблюдаются взаимные интересы. Но в любом случае это шаг вперед нашего «черного капитализма» к «капитализму с человеческим лицом» потому, что есть понимание, что современный бизнес не может развиваться в гражданском обществе лишь по единственному правилу «прибавочной стоимости». Я вообще считаю это главным достижением бизнеса в нашей стране за 20 лет капитализма, а не тот факт, что мы готовы построить газопровод вокруг Земли.
Собственно говоря, я это понял, когда в офисе Лейки мне сказали: «Давай мы тебе поможем». Мне так не сказали в русском Кэноне, например, потому что для них более рационально организовать раз в год фотовыставу «You can canon» среди всех фотографов, включая любителей всей страны, на каждой фотографии красными буквами написать «Canon», желательно поперек изображения, и все это повесить в Манеже или Русском музее. Просто подумайте, это способствует развитию творческой фотографии? – нет, конечно. Однажды я наблюдал в Петербурге, как представитель этой компании, менеджер, уже после отбора фотографий жюри, лично ходил по выставке и снимал фотографии со стены только потому, что они не соответствуют образу Canon. Ну, пожалуйста, мы все-таки страна хоть с каким-то культурным наследием, а не только нефть из земли качаем.
Когда репортажная фотография становится документом эпохи? Что ей может в этом помешать?
Мне кажется, когда мы перестанем смотреть на фотографию как на документ, не соотнося ее с автором или не зная автора вообще, то фотография всегда будет «спорным документом», возможно даже «фальсифицированным документом» и прочее. Дело в том, что любую эпоху мы знаем через какого-то автора. Они писали, говорили, рисовали… и только совсем недавно стали снимать. Так сложилось, что фотографию воспринимают априори как документ только потому, что человек, делающий ее, минимально искажает и воздействует на реальность. Когда-то это действительно было основной задачей фотографии, но только не сейчас. Мы прекрасно знаем, что войну, например, можно снимать с двух конфликтующих сторон, но в том и в другом случае это будет война – убийство, горе и разрушения. Но есть фотографы, которые одну сторону конфликта могут сделать патриотической и победоносной, а другую – варварской и захватнической. Но это не вопрос фотографии и не ее проблема. Это вопрос морали, идеологии или мировоззрения. Фотография, сама по себе, не может отвечать на эти вопросы и решать эти проблемы. На эти вопросы отвечает автор фотографии. От того, как он ответит и зависит то, чем будут его фотографии: пропагандой режима или документом эпохи.
Что может этому помешать? – отсутствие совести. Потому что в любом обществе, в любом государстве и в любой стране всегда есть выбор для личности. Другое дело, что этот выбор, иногда между двумя прямо противоположными полюсами, при соприкосновении которых неминуемо случается трагедия. Такой выбор сделать сложно по самым разным причинам, и чаще всего он зависит от наличия или отсутствия совести – понятие, которое тоже не призвана решать фотография, а решает ее автор и решает каждый по своему. Конечно, так нескромно говорить, но я знаю какие мои фотографии являются свидетелями времени, а какие – сплошным враньем. Я не знал, когда их снимал, но сейчас я это прекрасно понимаю, но вряд ли скажу какие это фотографии.
Что вас вдохновляет?
Люди. Я по-прежнему их люблю.
Вы снимаете чаще на пленку или на цифру?
Когда речь идет о выборе камеры, я поступаю очень рационально и это зависит от того, что, как, зачем и для кого я снимаю. Согласитесь, глупо снимать новости на пленку и на Лингоф. Конечно, цифровая и аналоговая фотографии имеют разную физическую природу… но помню все эти споры лет десять назад, я тогда просто снимал на черно-белую пленку и мне было немного странно слышать это… Дело в том, что я до сих пор иногда снимаю даже для газеты на пленку. Зависит от того, что снимать, как, почему, когда deadline. Помню, мне говорили со всех сторон, ты должен быть современным, модным, прогрессивным, снимать на цифру (тогда очень плохого качества), идти со временем в ногу и прочая истерия. К слову сказать, я был одним из первых фотографов в России, кто самостоятельно и частным порядком «цифровал» негативы еще в 1994 году и независимо передавал их через телефон как в свою газету, так и другие издания. Тогда даже в Москве еще не знали, что такое интернет и FTP-протокол для передачи файлов. А фотографы вообще не знали даже такого слова как «файл». Так что с технологиями у меня все было нормально и я до сих пор их использую, но у меня нет истерики по поводу, если ты снимаешь на пленку, то ты «немодный фотограф» или у тебя «несовременная фотография». Глупость невероятная. Я, кстати, уже несколько лет занимаюсь мультимедийными съемками и не вижу в этом ничего криминального по отношению к классической фотографии. В отличие от некоторых своих коллег, которые теперь утверждают, что цифровая фотография – это фотография, а мультимедиа – это говно. Я все это слышал уже сто раз. Пусть говорят.
Почему я использую цифру и/или пленку? – зависит от задач, которые я ставлю перед собой. Или ставят перед мной. Профессиональный фотограф всегда должен иметь перед собой задачу и цель. Вдохновения может не иметь, но задачу иметь обязан. У меня иногда случается проблема как с одним, так и с другим… тогда я снимаю на пленку и на цифру почти одновременно. Но это редко помогает в конечном итоге. Здесь так – или вдохновение, или задача, а лучше – то и другое вместе. Тогда это удача. Но редко бывает.
В 90-х вы работали стрингером. Когда было легче работать: тогда или сейчас?
Наверное, тогда по некоторым причинам было легче: было иное отношение к фотожурналистике со стороны общества и государства. Нам больше верили. Тогда вообще журналистика из «советской пропаганды» превращалась в «настоящую журналистику». Очень интересно. Прогресс! Но потом пришли олигархи и «купили наш интерес» за колбасу. Грустно все это. У нас народ теперь принято считать глупым, мягко выражаясь, но народ очень быстро понял, кем стали журналисты и чьи интересы обслуживают. Так что я не в обиде за то, кем они нас называют.
Легче было в том числе и потому, что было меньше фотографов с мыльницами и мобильными телефонами. Я не против массы фотолюбителей, наоборот, но есть проблема этического, морального и профессионального использования такого рода фотографий. Любители не знакомы с этими правилами и вовсе не стремятся с ними познакомиться. С другой стороны, массовое увлечение фотографией стирает границы между любителем и профессионалом, что иногда способствует развитию фотографии и выводит ее за рамки консервативной фотографии.
Знаете ли, профессиональные фотографы всегда находятся в каких-то рамках, можно сказать в «рабстве» в некотором смысле. У любителя есть бесплатно доставшееся ему чувство свободы в придачу с фотоаппаратом. В том числе за счет технологий. Но они не понимают или не ценят этого качества, они просто используют его как дар свыше, не отдавая себе отчета… фотоаппарат может быть оружием и тогда это становится опасно для всех.
Важно ли для фотографа профильное образование? Где вы учились?
Я считаю, что для фотографа очень важно, в первую очередь, универсальное образование, то образование, которое способствует формированию личности и мировоззрения. Есть люди, которые уверены, что если у них будет современная дорогая камера, то они будут современными востребованными фотографами – и они готовы тратить на это большие деньги, при этом забывая, что в этом случае камера делает фотографии, а они только нажимают на кнопку.
Есть другая категория людей, которая пытается обучиться каким-то техническим навыкам, приемам и клише в той или иной фотографии. Для этого они посещают курсы, семинары и различного рода сомнительного качества фотошколы.
Пока ничего другого, к сожалению, в нашей стране широко не практикуется в области фотографии.
В этой ситуации, я считаю, что самое лучшее это учиться в университете, желательно в самом лучшем университете и получить хорошее образование. После этого или во время учебы попытаться работать непосредственно с каким-то фотографом. С разными фотографами. Даже не обязательно работать, смотреть фотографии, обсуждать, просто дружить, говорить, водку пить. Я понимаю, для большинства это очень трудно практически осуществимо, но таким образом вы получаете не только «профильное образование», но и попадаете в среду, которая сама вас будет воспитывать и учить всему на свете. И в которой, в конце концов, вы будете работать. По крайней мере, я так учился…
Какие модели камер Leica вы используете и почему?
Только M3, М4, М6. Последние годы M6. Почему? – сложно сказать. Я считаю, М6 совершенством, хотя, наивно, конечно, так думать. Все-таки это совершенная механика, которая меня приводит в восторг, особенно тогда, когда разберешь камеру на отдельные части… Я всегда мечтал снимать только на M6, но не было такой возможности. Долгое время работал «парой»: Никон и Лейка. Очень удобно было, кстати. Дело в том, что я не использую вспышки ни при каких обстоятельствах, и Лейка, понятно, всегда меня выручала в сложных условиях освещенности. Я легко мог снять 1/4 с руки, при этом еще прикрыть диафрагму и получить более резкое изображение в результате.
Какие объективы вы используете?
С Лейкой только 35 и 50. Скорее даже только 35 – просто потому, что это мой любимый объектив.
Какие проекты и фотографии вы сняли с использованием камер Leica?
Да в общем-то я постоянно снимал лет двадцать, но всегда только в ч/б. На цвет Лейкой снимал лишь однажды – Эрмитаж. Это был не очень хороший опыт. Не из-за камеры, из-за меня. Несколько серий снял в Чечне во время войны и до в 1994 году. В Боснии в 1993-94 годах, тоже во время войны, много снимал Лейкой в Сараево. В Афганистане в 2001-ом, в Ираке в 1997 году. «Жизнь на Волге» в 2000-ом снимал как серию только Лейкой. Часть морей вокруг России – Лейками и Контаксами. Знаете, для меня камера – это тоже настроение. Однажды я снимал Лейкой на Севере, мне позвонили и сказали надо снимать новости на Юге. Я срочно прилетел на Юг и мне очень сложно было переключиться не столько на новости, сколько перестроиться с одной камеры на другую. Меня просто раздражала «большая кувалда» потому, что настроение было еще совсем другим. Быстро доехал. А когда ты чувствуешь какой-то дискомфорт с камерой, то это очень сильно влияет на твою работу. Камера – это как настроение. Если я вижу человека с Лейкой, я примерно знаю, что он делает, какое у него «творческое настроение» и задача. Если я вижу человека, который напялил на себя »разгрузку», то тоже догадываюсь, чем он тут занимается. Знаете, фотографы очень быстро считывают «визуальные коды», кстати, это тоже помогает в общении с людьми, но не все это понимают и используют.
Когда фотографию можно считать удавшейся?
Считать можно любую фотографию удавшейся, потому что в любом случае совершается какое-то «таинство» и происходит какое-то выделение энергии. Собственно говоря, это сейчас ярко заметно в интернете. Если честно, то меня не очень интересует фотография как результат удачи или неудачи, получилось или не получилось. Для меня очень важен сам процесс получения результата. Я не только живу в этом процессе, но и получаю от этого удовлетворение и удовольствие. Но когда, спустя какое-то время, я вижу свою фотографию на стене, мне всегда кажется, что от нее пахнет мертвечиной, потому что она как бы из моей прошлой жизни и не имеет ко мне никакого отношения в настоящем.
Вы все время повязываете шарф на голову. Расскажите историю вашего головного убора.
Смешно. Да нет никакой истории. Однажды мне показалось в Чечне или Косово, не помню точно, что моя голова вот-вот взорвется изнутри и я как-то совершенно инстинктивно перетянул ее шарфом, который снял с шеи. Стало легче. С тех пор я этим злоупотребляю, видимо. Но на самом деле, мне так просто более комфортно физически. Вот и вся история. Как при этом я выгляжу для остальных – меня беспокоит, конечно, но не настолько, чтобы всегда ходить исключительно в шляпе.
Над чем вы сейчас работаете?
Скорее всего над самим собой, потому что боюсь сойти с ума. Нет, правда. Ну, у меня есть обязанности фотографа в газете, за что я получаю гонорар и на что пытаюсь жить, параллельно я делаю несколько проектов фотографических и мультимедийных, за что чаще всего вообще ничего не получаю. Каждый день десятками пишу какие-то письма каким-то людям. Где-то выступаю и говорю, чаще всего глупости. Постоянно куда-то еду и еду. Много путешествую, так много, что уже давно забыл такое важное для каждого человека чувство как «родной дом». Но я сознательно к этому пришел. Это мое сегодняшнее «мировоззрение» – я бродяжничаю.
Вы ведете мастерскую в Школе им. Родченко. Расскажите о ваших студентах?
Я могу очень много про них рассказать, но главное, что они не «мои» студенты, а вполне самодостаточные фотографы. По крайней мере, я в это верю. Я тут недавно прочитал, что в одной из мастерских обязательным условием поступления является знание студента работ мастера. Конечно, это логично, с одной стороны, но с другой способствует некоторой авторитарности. Я поступил ровно наоборот, когда набирал группу. Меня интересовали любые намеки и попытки абитуриента потенциально делать свою фотографию. Меня интересовали неординарные личности, а не подражатели и банальные эрудиты. Те абитуриенты, которые показывали мне фотографии, которые, якобы, как у меня или могут мне понравиться и способствовать их поступлению – мной в мастерскую не принимались. Хорошо это или плохо – сейчас невозможно сказать. Посмотрим.
Однажды мой сын мне сказал: «Ты виноват в том, что слишком много дал мне свободы в детстве». Мне, конечно, было ужасно обидно от такого заявления и я несколько дней ходил и думал, что, наверное, он прав. Но потом сказал ему: «Знаешь, я виноват только в том, что не объяснил тебе, как этой свободой пользоваться». Собственно, в этом заключается задача в любой творческой мастерской.
Так или иначе, но на всю школу Родченко только у студентов нашей мастерской есть все основания называть себя фотографами в полном смысле этого слова, а не как бы «современными художниками», использующими фотографию как примитивный инструмент «для достижения своих интеллектуальных и творческих целей».
Что должен знать каждый начинающий фотограф?
Что есть Свет и Свобода.
Как вы считаете, какие течения в российской фотографии сейчас особо актуальны?
Точно не актуальное искусство. Я считаю, что возрастает интерес к документальной фотографии. Это тоже объективно потому, что с одной стороны есть предпосылки экономического кризиса в стране и в обществе, который способна в большей степени отразить документальная фотография и фотожурналистика, а не все остальные направления в фотографии. Вспомните, последний всплеск интереса к документальной фотографии наблюдался во время Перестройки. С другой стороны, есть некая усталость в обществе от профанации «современного искусства», концептуальной фотографии, «надуманной-передуманной» – словом, далекой от реальности. Люди хотят больше видеть самих себя во всех процессах, а не избранных моделей, политиков, бизнесменов, или даже видеть мир не глазами избранных «фотографов-гениев», а своими глазами. Люди сами хотят быть фотографами и свидетелями своего времени. В этом им нельзя отказать. Хотя бы потому, что это просто опасно.
Какую вашу фотографию вы считаете для себя главной? Как и когда она была сделана?
У меня нет главной фотографии. У меня есть фотографии, которые часто используют к месту и не к месту. Фотограф в течение своей работы и жизни как бы создает свой маленький мир, который материализуется в виде фотографий. Для постороннего человека кажется, что этот мир дискретный и состоит из отдельных фотографий, которые нравятся автору и которые не очень, но нравятся другим. На самом деле это не так. Автор фотографии и зритель по-разному смотрят: один изнутри, другой снаружи. Для меня, как автора, даже самая захудалая фотография может быть главной, для зрителя, особенно искушенного – нет, потому что зритель отсутствовал тогда и в том месте, когда автор делал эту фотографию и видит только то, что фотограф смог ему передать. Но дело в том, что фотография способна передать только очень маленькую часть всего спектра человеческого восприятия действительности. Поэтому есть разница, как я воспринимаю фотографию, которую сделал сам, и как вы – зритель. У меня, кроме изображения, сохранился другой носитель памяти – мои впечатления и ощущения, которые не способна передать фотография даже самая лучшая из всех.