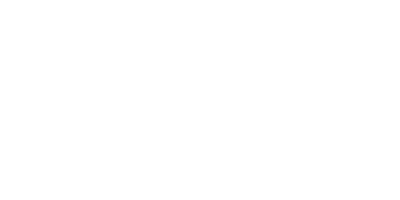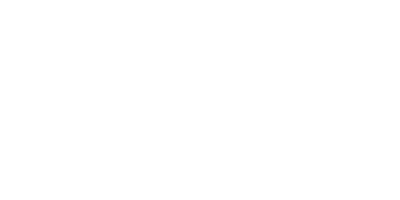Почти год я просыпался под звон колоколов Храма Христа Спасителя. Открывал глаза и видел его купола прямо из постели. Видел до тех пор, пока не поднялся ещё выше долбанный музей Ильи Глазунова. Он все рос и рос. В высоту и в ширина. Прямо как картины самого художника. Можно сказать у меня на глазах. Каждое утро, я отмечал про себя что на одну кладку кирпича купол ХХС стал меньше виден из моего окна. В конце концов позолоченный луковка храма исчезла из поля зрения и остался слышен лишь звон колоколов. Два раза в день. Потом все меньше стал слышен и перезвон. Его заглушала работающая техника во дворе и внутри дома. Грохот отбойных молотков, ломающихся переборок здания и русская брань строителей из Азии.
В день, когда я уехал из этой «мастерской» навсегда в деревню, меня совершенно случайно пригласили звонари в Храм Христа Спасителя.
Я не очень любил это пространство Москвы. Не любил здесь жить по самым разным причинам. Всегда искал повод чтобы не приезжать сюда ночевать. Когда по ночам, не желая возвращаться домой, я сидел рядом с Пушкинским музеем на лавочке и пил свое «последнее пиво», ко мне, иногда, подходил милиционер, (он охранял музей в течение всей ночи — курсировал вокруг зданий) и спрашивал: «Опять пиво?» Я отвечал: «Ага»… тогда мент присаживался на лавочку рядом чтобы рассказать какую-нибудь историю, а когда уходил, то всегда говорил: «Только пустую бутылку выброси в урну…» Культурный был милиционер — почти работник музея.
Чуть дальше, если идти от моей лавочки за следующей бутылкой пива к Гоголевскому бульвару, есть бензозаправка на которой висит вывеска «бензозаправка не работает» и стоят запрещающиеся знаки для въезда автомобилей. Это не правда, бензозаправка работает, но только для кремлевских машин и лимузинов. Я не раз видел как здесь по ночам заправляются путинские и медведевские членовозы. Автомобили приезжают сюда хоть и без своих хозяев, которые отдыхают и не пьют пиво на лавочках, но членовозы также бдительно охраняются «несимпатичными ребятами» с проводами, воткнутыми в уши — ФСО называется. Они менее приветливы, чем знакомый мне мент из музея Пушкина и на вопрос: «Чей лимузин: Медведева или Путина?» — только невежливо ухмыляются.
Через дорогу — Волхонку, почти напротив этой бензоколонки и находится Храм Христа, за пафосным кафе «Академия», принадлежащим формально нашей православной церкви и где однажды, по пьянке, я требовал постное меню, хотя никогда в жизни не постился. В этом кафе очень часто можно встретить всех основных и теневых служителей нашей церкви поэтому мне казалось, что постное меню здесь должно присутствовать, точно также как wi-fi, который лично я часто там использовал и отнюдь не для переговоров с Богом.
Здесь же, на «привокзальной площади» Храма есть магазинчик «Свежего Хлеба» — монастырского по совсем не монастырским ценам. Я заходил туда почти каждый день и продавщица, с видом депрессивной послушницы, в платке и с тонким золотым крестиком на груди, всегда отвечала на мое «спасибо» только одно — «с Богом», независимо от того, чтобы я не покупал: пирожки с капустой или монастырский хлеб. Не знаю почему, но она мне нравилась, в ней была какая-то надломленность и покорность, но совсем иная, чем встречается среди фанатиков-верующих. Однако, я так и не заговорил с ней.
Почти каждое утро я наблюдал множество всяких там иностранных туристов, которые с одинаковыми фотоаппаратами фотографировали одинаковые виды на Храм, на себя или на то и другое вместе. Если кто хотел снять что-то другое, то на это имеется определенная услуга в 1500 рублей — подняться на смотровую площадку Храма и снять что-нибудь еще с видом на себя или так просто. Желающие были, но я не был в их числе. Я в Храм то заходил только один раз — искал икону, где красноармейцы убивают священнослужителей на Соловках. Я как раз приехал с Соловков и мне было интересно посмотреть как эти преступления выражены в канонической форме в виде иконы.
Этот Храм Спасителя мне вообще трудно признавать как церковь… наверное потому, что я не воспринимаю церковь как музей и тем более резиденцию власти духовной или какая там еще власть по праздникам размещается на двух красных стульях? Скорее я воспринимаю церковь как психиатрическую больницу. Примерно также отношусь и к ее обитателям. Ничего личного, это просто на уровне ощущений. Ведь на самом деле для чего люди ходят в церковь? — наверное чтобы душу излечить. По тем же самым причинам людей отправляют и в психиатрические больницы. Не правда ли?
Дальше, если идти от Храма-музея, по той же стороне улицы Волхонке, к Красной площади или в сторону моего временного жилья, то проходя мимо музея Глазунова, нужно быть осторожным. Особенно ночью, так как именно ночью охрана выпускает злых собак. Я не любил одну из них — здоровенную немецкую овчарку и называл ее — «Фашист». «Фашист» был злой как собака. Он никогда не предупреждал лаем, а просто дико бросался на забор, окутанный строительной сеткой, издавал свирепый «рык» после столкновения с преградой и только после этого начинал злобно лаять до хрипоты. Все это происходило в метре-полтора от пешехода. В ночной тишине такая неожиданность звуков может плохо кончится для человека с утонченной поэтическим мироощущением, коим я себя иногда считаю. Так однажды у меня даже возник план, когда я возвращался из кафе «Мишель» на Гоголевском бульваре — отравить пса, а музей Глазунова взорвать. Однако, я не осуществил его в силу отсутствия у меня манер и возможностей «эффективного менеджера», а просто решил уехать в деревню на новое место жительства.
Дом, в котором я арендовал «жилье-мастерскую», когда-то принадлежал КГБ, а еще раньше здесь были мастерские музея Пушкина. Кстати, в этом же доме жил не только художник Тропинин, но и фотограф Родченко, когда они вместе с Татлиным громили передвижников и всяких там «ученых художников», а на иконах из разрушенного Храма Христа Спасителя Родченко рисовал свои «новые иконы» — абстрактные композиции. Например, композицию номер 100, сделанную Родченко на иконной доске, теперь можно посмотреть в частной коллекции пушкинского музея. Я лично ее осмотрел и лишний раз удивился превратностям нашей истории. Так что «дьявольский дух» Родченко меня особенно яростно преследовал в этих развалинах бывших мастерских художников. Настолько сильно, что я даже умудрился написать огромную статью «Монтаж террора», за которую, после публикации в Голландии, поимел достаточно много проблем в России. Это вам не деревенских передвижников громить, это наши духовные и финансовые бренды, как сейчас говорят.
Когда я упаковал все свои книги, архив и всякое другое барахло, отправил все в деревню и навсегда попрощался с еще одним, мрачно-мистическим местом Москвы, то тогда и позвонили звонари Храма Христа Спасителя, только уже не в свои колокола, а на мой мобильный телефон. Странная история… Так бывает и всегда есть ощущение чего-то упущенного, того, что невозможно вернуть.