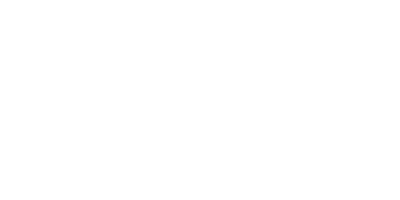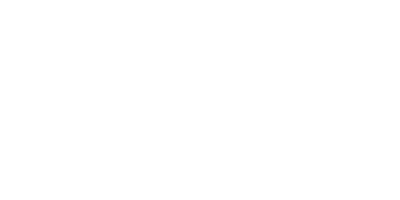Как бы тестировал камеру Nikon D700. Хочу купить. Зачем? — не знаю. Просто надо купить «кормилицу» говорят.
Что сказать про нее? — конечно это лучше чем Canon. Сейчас лучше. Кажется опять наступает эра Nikon для сумасшедших фиксаторов мира сего. Лично я не против, мне даже нравится, я начинал с Nikon и никогда не забуду фразу одного фотографа: «Дайте мне Nikon и я переверну мир». Но моей камерой остался Nikon F3 и видимо навсегда.
В начале кажется, что D700 лежит в руке не так, вроде бы как кнопки не под те пальцы, но быстро привыкаешь. Изображение почти «идеальное», многопиксельное и имидж весит примерно столько же мегабайт, сколько мое полушарие мозга, отвечающее за визуальную информацию. Скорее всего даже больше, потому что мой глаз не способен видеть такого количества мегопикселей.
Техническое совершенство не имеет границ, как я понимаю, и скоро мы будем снимать не для человека, а для компьютера, для его матрицы, которая более совершенна чем обычная сетчатка человеческого глаза. Меня всю жизнь учили что «камера — это продолжение моей руки». Оказалось — нет. Это продолжение моего глаза. Ха-ха. Несовершенного глаза, божественно сделанного и своего рода неповторимого. О руке больше не идет речь, пальцы сами находят кнопки. Речь уже о глазах, которые ближе к коре головного мозга.
Глупо спрашивать меня чем Nikon отличается от Canon сейчас. Я не знаю. Также глупо, наверное, спрашивать чем пистолет «ТТ» лучше чем «Макаров», не прада ли? Какая разница, если результат один и тот же. Вы просто достаете свой «ствол» — продолжение руки и начинаете извергать «гром и молнию». Совершенство. Как «Терминатор».
Но мне вспомнился другой фильм — The Final Cut (окончательный монтаж) с Robin Williams, где в ближайшем будущем обеспеченным младенцам вставляют в мозг чип-памяти, фиксирующий все события его жизни, а после смерти, делается «окончательный монтаж» фильма, который демонстрируется во время его похорон. Гениально.
Если немного интерполировать этот фильм, то становится очевидным, что профессии фотографа скоро вообще не будет существовать, останутся фоторедакторы, монтажеры, которые будут делать из вашей жизни сказку.
Не знаю… мне кажется технологический путь развития фотографии несколько тупиковым 🙂 По крайней мере, я бы хотел, чтобы вначале исчезла профессия фоторедактора, после критика и искусствоведа, разумеется. Что до фотографов с матрицей в глазу и чипом в мозгах — мне не интересно. Я буду лучше смотреть старое кино с Robin Williamsом.
Ну вот что приключилось со мной. Когда я брал камеру на тестирование, я забыл взять зарядку. Потом глянул на батареи, которые по форме были такие же как у Canon и тупо подумал — моя зарядка должна работать. Конечно она не работала и великолепный Nikon D700 просто лежал у меня дома. Странно, у меня не было азарта и фана что-то специально снимать, а когда мне нужно было снимать цифрой, я использовал свой старый Canon с таким же равнодушием, а пальцы даже привычнее искали необходимые кнопки.
Так странно, эта «японская балалайка» общей стоимостью в комплекте тысяч в шесть долларов, почти совершенство, оказалась для меня совершенно равнодушным «музыкальным инструментом». И вот я думаю, надо ли мне купить камеру? — говорят что надо. Кому надо? Мне надо. Другому мне.
P.S. Искреннее спасибо компании Nikon в Москве за безвозмездную возможность работать их камерой и оптикой. Это действительная отличная камера и мои «ощущения» не имеют ничего общего с техническим совершенством камеры ))