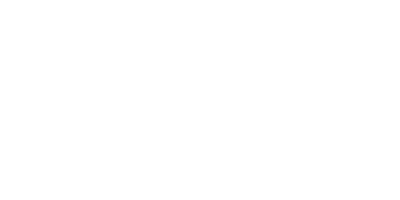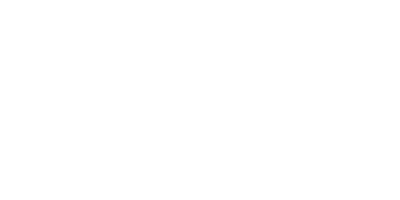Сравнивая документальную и арт-фотографию напрашивается предположение, что мотив создания арт-фотографии находится внутри личного сознания фотографа, а для появления документальной фотографии требуется стимул извне. В какой-то степени так оно и есть, но мне такое разделение кажется формальным.
Когда я пытаюсь понять, почему меня всегда привлекало документальное кино, а сейчас и документальная фотография, я сталкиваюсь с тем, что на свет появляется очередная концепция, набор мыслей, а сам предмет, который я пытаюсь анализировать, безнадежно ускользает. Художественный вымысел в искусстве за редким исключением выдает себя – придуманное кажется безжизненным и пустым. А любое великое произведение искусства, как известно, отличается такими качествами, как подлинность и точность. Правдивым произведение искусства делают детали, которые настоящие художники черпают из самой жизни – из своих наблюдений за внешним миром, но и, конечно же, из наблюдений за своей внутренней жизнью.
Наверное, это консервативный взгляд, и для современного искусства точность и правдивые детали не являются приоритетом. Современный художник ориентируется на внутреннее состояние, на свою внутреннюю реальность. Тогда возникает вопрос – что такое, эта внутренняя реальность. Из чего она состоит? И (крамольный вопрос) стоит ли это внимания? Если обращаться внутрь, первое, с чем мы столкнемся (если будем честными) – это ум. Мысли, мысли, мысли – бесконечный поток. Давно устаревшие мысли, чужие мысли, банальные мысли, пустые мысли, пугающие мысли, лживые мысли. Что если пытаться черпать вдохновение в них? Боюсь, что такой ум не может ничего создать. Он может только повторить, воспроизвести, выдать что-то стереотипное и наскучившее.
Вот если найти в себе что-то другое, какой-то источник, из которого можно черпать что-то свежее и живое. Об этом, наверное, мечтает каждый, кто долго шел за своим умом и понял, что его водят за нос или, в лучшем случае, по кругу. Создание арт-фотографии требует от художника знания и понимания самого себя, своего внутреннего Я, а это, чаще всего, достается с опытом, в том числе и во внешней жизни. Где же тогда источник арт-фотографии, если путь художника лежит через внешнее во внутреннее и если идея приходит из неведомого источника?
Недавно, читая книгу Ильи Кабакова «60-е – 70-е… Записки о неофициальной жизни Москвы», я нашла мысль, которая перекликается с моим предположением: «Внезапно, как будто озарение, появилась, нарисовалась серия с душем, листков 15-20 (на паршивой бумажке 20/13, карандашом). Как-то во всем эта серия меня устраивала: и внезапно, «без моего участия», и «оригинально» (нигде такого я не видел), а главное – уверенное, ликующее чувство, что «мое!», ни чье-то, а мое, и я действительно изнутри связана с результатом, какая-то неразрывная нить идет к этим рисуночкам из глубины меня, и такое чувство, что связь это не прервется, а будет дальше и дальше разматываться, надо только без устали вытягивать и вытягивать. Так с того времени это и установилось навсегда: эта нить из меня, из темной, неизвестной глубины наружу, наверх. Как, почему это получилось – не знаю, но хорошо помню и внезапность и радость какую-то особую, подлинную. И критерий этой радости, ее подлинности тоже сохранился как особый критерий с этой же минуты».
Возвращаясь к документальной фотографии, скажу, что некоторые реальные жизненные ситуации и реальные люди казались мне более невероятными, более завораживающими, чем любой самый изощренный вымысел. В этих ситуациях хотелось быть наблюдателем, никак не вмешиваясь и не вторгаясь. Но почему именно эти ситуации и именно эти люди? Каждый раз, задавая себе этот вопрос, я находила ответ глубоко внутри. Или вообще не находила, просто понимала, что иначе быть не может. Да, именно это в этот самый момент приковывает мое внимание, не оставляет меня равнодушной, «не отпускает», требует моего присутствия. Другого человека это может и вовсе не затронуть, как и меня не затронет что-то другое. Где же тогда мотив для создания документальной фотографии? Вовне или внутри?
Даже просто наблюдая за происходящим и пытаясь зафиксировать это на снимке, я уже меняю это, делаю не вполне реальным, не тем, что существует на самом деле. Так происходит всегда, когда есть Я, есть «смотрящий», есть личность фотографа. Я увижу «это» именно так, увижу это «изнутри», по-своему, даже если изо всех сил буду стараться быть отстраненной и объективной. В этом и прелесть, в этом и безысходность.
Не собираюсь, конечно же, оспаривать факт существования разницы между документальной фотографией и арт-фотографией. Но, по-моему, это просто разные способы выражения одного и того же – внутреннего через внешнее или внешнего через внутреннее. Возможно, разница лишь в выборе объекта – из внешнего мира или из внутреннего.
Сравнивая фотожурналистику и документальную фотографию, прихожу к выводу, что фотограф-документалист в большей степени может позволить себе роскошь быть автором в самом почетном смысле этого слова. Фотожурналист ограничен многими условностями, которые диктует тот носитель информации, на который он работает. Часто журналист ограничен в выборе темы, его преследуют такие понятия как позиция издания, стиль издания, новизна и актуальность информации, важность информационного повода, рейтинги, читательский интерес, мода, тенденции и даже (самое тривиальное и распространенное) вкус редактора. Он обязан вписываться в структуру, на которую работает, «быть адекватным».
Фотограф-документалист, если хочет «попасть в струю», тоже, вероятно, должен приглядываться к условностям «рынка» и потребностям публики. Но если у него есть еще и внутренний мотив для работы, он вовсе не обязан, к примеру, выбирать супер-актуальные, злободневные темы и отражать выгодную для кого бы то ни было позицию. У него определенно есть большая свобода во всем, но нет никаких гарантий, что его работы вызовут интерес и получат признание.
Журналистика часто довольствуется отражением лишь малой части информации, проще говоря, факты часто подаются вырванными из контекста. Для мира СМИ, в котором информация течет мутным потоком и должна как можно скорее забыться, чтобы уступить место «новым историям», это нормально. Скорее всего, по-другому просто невозможно – нет времени и других ресурсов, чтобы вникать в детали и обстоятельства.
Для документалиста, на мой взгляд, тщательное и честное изучение всех обстоятельств, в которых существует «Объект», является святой обязанностью. Методы такого «изучения» бывают, конечно же, разными, и это зависит от типа личности фотографа, от того, что для него наиболее естественно. Но лично мне всегда хочется сблизиться с «Объектом» ненасильственно и на первых порах как можно более беспристрастно. По-другому я, скорее всего, и не смогу, потому что мне всегда требуется длительное время, чтобы составить свое мнение, привыкнуть, понять. Мне необходимо, чтобы между мной и героями сложились отношения доверия.
Меня всегда удивляет и расстраивает, когда я узнаю о методах работы некоторых «документалистов» (в том числе и в документальном кино). Например, когда к героям относятся без сочувствия и симпатии или когда автор вводит героя в заблуждения относительно целей съемки, чтобы получить нужную информацию или нужный кадр. Возможно, таким способом можно сделать свою позицию более острой. Правда возникает вопрос: где разница между личным взглядом и фальсификацией?
Фотограф, который в последнее время мне очень близок – Роберт Дуано – не раз признавался, что создает на своих фотографиях свой собственный «идеальный» мир, которого в действительности, скорее всего, не существует. Но обвинить его в фальсификации не повернется язык. Причиной этому, как мне кажется, простота и подлинность его снимков. И еще его симпатия к героям. Название его метода работы, который мне очень нравится, звучит совершенно непрактично – «в ожидании чуда». Но при этом метод явно работает.
«Бывают дни, когда просто видеть кажется само по себе огромным счастьем… Чувствуешь себя таким богатым… и хочется со всеми поделиться». Роберт Дуано
Существует представление о Дуано как о фотографе, создавшем устойчивые стереотипы о Париже, которые были растиражированы на открытках и плакатах и прочно засели в головах людей – уютные уличные кафе, влюбленные парочки, забавные дети… Благодаря публикациям в журналах Life, Paris Match и Vogue его фотографии стали известными. Но вместе со славой пришли и обвинения в банальности, популизме, в том, что его кадры постановочны. Дуано же продолжал часами бесцельно бродить по городу и его окраинам, фотографировать «для личных целей», разглядывать незнакомцев, разговаривать с ними и, по его собственным словам, создавать из увиденных образов «маленький театр для самого себя».
Простота фотографий Дуано может раздражать современный изощренный ум. Кажется, чтобы сделать такие снимки, нужно только немного времени, чтобы побродить по городу, и немного везения, чтобы подглядеть жизнь каких-нибудь странных персонажей. Но узнавая больше о Дуано, можно предположить, что ключом является его идеализм. Или, проще говоря, стремление все идеализировать. Благодаря этому простые сюжеты городской жизни и ничем не примечательные герои на его фотографиях часто превращаются в образы почти идиллические, где все проникнуто светом дружелюбия, умиротворенности и неброской красоты. Этот свет, видимо, содержался во взгляде Дуано. Он сам признавался, что всегда искал мир, в котором существуют доброжелательность и нежность. А его снимки были как бы доказательством существования такого мира. Он, оказывается, вовсе не стремился к объективности, не пытался показать мир, таким, какой он есть. Но при этом, не выискивая ничего экзотического и шокирующего, а напротив, вглядываясь в банальность, Дуано создавал причудливые образы, которые будоражили воображение и запоминались надолго.
Считается, что еще в детстве у Дуано сформировалась своего рода «память места» — он родился в апреле 1912 года в семье рабочих на окраине Парижа и рос в фабричной среде, видел работяг, нищих, цыган, поденщиков, словом, отнюдь не то, с чем у нас обычно ассоциируется Париж. Но именно эти образы, по его собственным словам, «впечатались» в него, и затем проглядывали в его работах как часть какого-то более объемного целого.
На первых снимках, сделанных Дуано в 1929-30 годах, вообще не было людей. Он фотографировал, к примеру, забор с ободранными афишами. Дуано был слишком стеснительным, чтобы сфотографировать кого-то. Но, по его мнению, стеснительность сослужила ему службу: она сдерживала его, и, начав снимать людей, он делал это с приличного расстояния, захватывая при этом большое пространство, а в это пространство всегда попадало что-то интересное, к чему хотелось вернуться.
Важным периодом в жизни Дуано стала работа ассистентом у Андрэ Вигно, известного фотографа и скульптора. Именно под его влиянием Дуано познакомился с революционными теориями в искусстве, с авангардом, стал общаться с художниками, писателями фотографами и купил свою первую собственную камеру.
А в 1934 году, после службы в армии, Дуано поступил работать фотографом на завод «Рено». И именно там, как он сам считал, началась его фотографическая карьера. Его снова очаровал мир работяг, он увидел там достоинство и товарищество.
Однако его карьера была прервана войной. Демобилизовавшись в 1940 году, Дуано оставался в оккупированном Париже и продолжал снимать его жизнь. А после окончания войны – его возрождение. Публика того времени соскучилась по иллюстрациям и нуждалась в оптимистичной, гуманной и даже поэтической фотографии.
Дуано сотрудничал с различными агентствами и продолжал снимать «для себя». Он любил длительные прогулки по Парижу и его окраинам и всегда отправлялся в путь «в ожидании чуда». Он сравнивал Париж с огромным театром, за билет в который платишь потраченным временем. Некоторые районы фотограф знал как свои пять пальцев и, прогуливаясь по ним, ежеминутно встречал знакомых.
Дуано был очень терпелив, и неудивительно, что он мог дождаться чуда. Со временем он сам говорил, рассматривая свои фотографии: «Все эти снимки, которые так красиво стареют, были сделаны интуитивно. Я полностью положился на интуицию, которая дает гораздо больше, чем рациональная мысль. Для такого подхода требуется мужество – мужество быть глупцом. Особенно в наши дни, когда вокруг так много интеллектуалов, которые перестали смотреть и видеть, потому что слишком уж поглощены знаниями».
Работая в Vogue, Дуано волей неволей был вовлечен в мир моды, роскоши и знаменитостей. Мир же, который он любил, находился на противоположном полюсе. Днем он работал на «гламур», а ночами погружался в ночной Париж, где на сцену выходили маргинальные обитатели города и аутсайдеры от искусства. Он снимал также знаменитые парижские кафе с их знаменитыми посетителями. А в 1950 году появилась его серия «Поцелуи», куда вошла фотография «Поцелуй у отеля де Вилль», которая стала визитной карточкой Дуано.
Дуано всегда мечтал отказаться от малоинтересной ему работы и вернуться «на улицы» Парижа. Иногда ему это удавалось. Фотография переживала разные времена, в 60-х количество публикаций и выставок резко сократилось. А в середине 70-х Дуано как бы открыли заново для молодого поколения. Он был обласкан вниманием прессы, стал настоящей «звездой», получил множество наград. И продолжал снимать «для себя», желая лишь, по его словам, «оставить память о том маленьком мире, который он любил».
Но со временем Париж менялся, менялись парижане. Совсем другими стали и любимые Дуано пригороды. Дуано объявил о конце «дикой» фотографии, которая нацелена на поиск скрытых сокровищ. Бетон повсюду заменил дерево, ничто больше так не отражало свет… Даже он не чувствовал больше прежней радости.
В наши дни фотографии Дуано кажутся диковинными, от них веет сказкой. Иногда герои его фотографий даже вызывают зависть.
Современный человек часто кажется потерянным, размытым, он изо всех сил старается сообщить миру, кто он есть, очертить границы своей личности, идентифицировать себя. Он пытается кричать об этом словами, одеждой, увлечениями, интернет-страницами, фотографиями, и часто еще больше запутывается. А Герои Дуано — счастливчики, или, по крайней мере, кажутся таковыми. Они являются неотъемлемой и органичной частью своего маленького, но уникального мира, они естественно и уютно обитают в своей среде, которая от этого становится такой пленительной и живописной. Они хозяева своих мирков, эти мирки вместе с ними родились и, возможно, умрут, или уже умерли, вместе с ними. Мужчины, женщины, дети – кажутся милыми, добродушными, забавными, немного беззаботными – такими, какими их видел, или хотел видеть, фотограф.
Сам Дуано говорил, что можно делать снимок, только почувствовав любовь к тому, кто в кадре. Он и правда считал простых парижан, которых снимал, самыми душевными и искренними, более того, он видел в их жизни поэзию. Фотограф любил снимать их, смотрящими в объектив, понимая, что они даже не умеют позировать. Хотя вряд ли он мог не замечать их недостатков или трудностей их жизни. Здесь на помощь приходило чувство юмора.
И правда, многие снимки Дуано вызывают улыбку. Фотограф умел «схватить» реальность, но, если это необходимо, смягчить ее долей юмора. Сам он называл юмор разновидностью скромности. Показать что-либо с юмором, значит не грубо описать это, а лишь деликатно коснуться. Юмор для Дуано был убежищем, в котором можно спрятаться. Юмор помогал ему умалчивать многое о вещи, но в то же время и говорить о ней многое. Это объясняет присутствие скрытых смыслов во многих его фотографиях.
Более 60 лет Роберт Дуано шел своим собственным путем в профессии фотографа, не примыкая ни к одному движению, «в ожидании чуда», полагаясь только на свою интуицию, даже если она сбивала его со следа. И пусть его самая знаменитая фотография «Поцелуй у отеля де Вилль» оказалась постановочной, и на старости лет он стал участником громкого скандала. Он ведь часто повторял, что снимает «для себя», для своего «маленького театра», а вовсе не для людской славы.
Некоторые фотографии Дуано составляют своеобразные пары, и это усиливает их выразительность. На первый взгляд совершенно разные ситуации (или люди) содержат в себе неожиданное сходство. В других случаях они дополняют или развивают друг друга. И это заставляет посмотреть на фотографии с другой стороны, увидеть новый смысл, новые качества и черты.Особенно удивляет, когда это «сходство в различном» возникает само собой, неожиданно, когда для этого не предпринимаешь специальных шагов. Тогда хочется думать, что фотограф действительно может поймать «момент подлинности», которую невозможно создать искусственно, а не вторгается насильственно в тот мир, который снимает.
Метод Дуано – длительное наблюдение – позволяет дожидаться подлинных уникальных ситуаций, ради которых, на мой взгляд, и стоит заниматься документальной фотографией. Это метод очень мне близок и интересен, и я стараюсь развиваться именно в этом направлении.
Александра Мамаева (Студент мастерской «Документальная Фотография», Школа Родченко)
Список литературы:
1. Robert Doisneau, Jean-Claude Gautrand, TASCHEN, 2003.
2. Three seconds of eternity, Robert Doisneau.
3. Robert Doisneau, Margarita Nieto, статья.
4. The theatre of dreamers, The Irish Times, 13 февраля 2010.
5. «60-е – 70-е… Записки о неофициальной жизни Москвы», Илья Кабаков, М.: Новое литературное обозрение, 2008.
Реферат А.Мамаевой: «Robert Doisneau» 17 июня, 2010Oleg Klimov