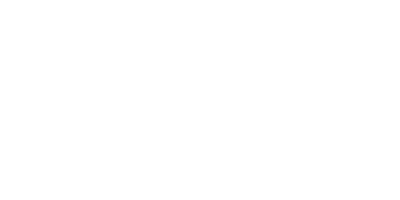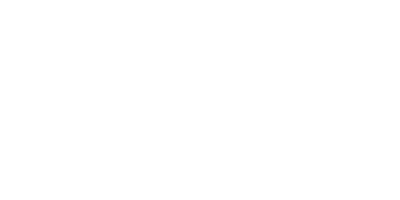Прикосновение к «ковровой журналистике» , в смысле посещение оранжевого Президента Ющенко для интервью и в связи с его визитом на родину Оранжевой Королевы, я просто вспомнил мою встречу с ней. Было это года три назад, кажется.
Президент Путин со своей женой должен был встретиться с Королевой Нидерландов Биатрикс и ее сыночком, которого, помнится, называли не иначе как принц Пиво…Встреча была в Малом театре Москвы.Обычная ситуация. Кремлевский пул (pool) всех фотографов. Стоять негде. Двигаться невозможно. Театр и правда малый. Все толпятся у входа, толкая друг друга локтями, штативами и камерами. Атмосфера агрессивная. Где появится президент — ясно не точно.
Вдруг нарисовался начальник протокола администрации Президента и объявил:
— Один официальный фотограф от президента и один от нидерландской стороны — за мной!
У королевы «личника»( персональный фотограф) не оказалась и голландцы предложили фотографа NRC, кого я и представлял на этой тусовке. У меня было три камеры и один, ну очень большой объектив с накрученным на него штативом-моноподом. Все это болталось на плечах и значительно затрудняло движение в толпе коллег, клерков и охранников. Все-таки мне удалось оказаться в коридоре, организованному живой толпой по которому должны проследовать президент Путин и Королева Нидерландов. Нас вывели на улицу и сказали:
— Вон от туда выйдет президент.
Ну он вышел из другого места. И достаточно неожиданно. Прямо перед моей камерой. Так как я был в «коридоре», то мне можно было двигаться только задом обратно в театр и снимать Путина…Однако, что было мне не ведомо, с другого конца коридора двигалась Королева навстречу моей спине. Когда я это почувствовал и повернулся к ней, то было уже поздно: торчавший на метр от меня штатив зацепил ее шикарное блестящее платье. Вместо того, чтобы «кинуться в объятия Путина», она вынуждена была поправлять свое испорченный наряд и явные затяжки на платье. Ужас. Спустя доли секунды я получил сильный удар в спину от огромного охранника и просто пулей влетел в толпу присутствующих коллег и других официальных лиц.
Понятно, что сказать извините, я просто не успел.Морально и физически подавленный, я уже не мог нормально работать. Веселья не прибавило и то, что на следующий день меня не взяли в «королевский самолет», улетающий из Москвы в Питер.
Но проявив мужество 😉 я добрался до берегов Невы самостоятельно и вскоре увидел голландских журналистов, толпившихся у борта прогулочного катера на котором собиралась совершить прогулку Королева Нидерландов.
Естественно, журналисты иронизировали надо мной, шутя называя «убийцей королевы». И решив в очередной раз разыграть меня сказали:
— Климов, ты попал в пул (pool) на частную прогулку Королевы вместе с Яковлевым (бывший губернатор Петербурга). Поднимайся, там тебя уже ждут!
Ничего не подозревая как настоящий лох, я забрался на трап и зашел на борт корабля. Российская охрана, видимо, приняла меня за голландца, я голландская — за русского. Так или иначе, но никто не спросил у меня документов или вообще кого черта я здесь делаю. Голландские журналисты остались потешаться на берегу, ожидая, когда охрана меня будет опять вышвыривать…
Однако, ничего не произошло до тех пор, пока я опять не столкнулся с Королевой, в этот раз на корме корабля, где она любовалась видами города в окружении каких-то жлобов. Проблема в том, что по королевскому протоколу или этикету, никто не имеет право заговорить с Королевой если она сама не обратится к тебе. Не зная этого, я решил извиниться за свое дебильное поведение накануне прошло дня, хотя вся вина, с моей точки зрения, лежала на начальнике протокола администрации президента, уже не помню как его зовут…
Честно сказать Королева не пришла в восторг увидев меня. По крайней мере так мне показалось, видимо так показалось и какому-то снобу из ее окружения, которые немедленно подвалил ко мне и заговорил по английски, что дескать это не по протоколу, снимать здесь нельзя и типа, чтобы я проваливал…
Я тоже сделал снобский вид, просто не замечая его, тут Королева и спросила меня:
— Из кого Вы издания, молодой человек?
— Из NRC, — ответил я, — И в принципе хотел только извиниться за вчерашний инцидент.
— Ничего, — сказала она, — Будьте осторожны. Я так и не поняла как Вы оказались между мной и президентом.
— Я тоже этого не понял, — ужасно смутился я,- Начальник протокола меня туда поставил.
После этого она перешла на голландский язык и стала что-то болтать со снобом, который хотел меня выгнать. Я ничего не нашел другого как начать снимать. Больше меня никто не смел трогать даже в тот момент, когда Королева пританцовывала на палубе или пила шампанское.Когда я вышел на берег вместе с окружением Королевы. Причем снял как они прощались с Принцем, целуя друг друга, пишущие журналисты из голландских изданий, стали настойчиво спрашивать у меня фотографии для своих изданий, на что я важно и по-жлобски отвечал: Это «скуп» (Scoop) для NRC. А про себя добавлял: На самом деле вы просто голландские засранцы.
Вот так, очевидно, и складываются легенды о великодушие королевских особ и хамстве фотожурналистов.