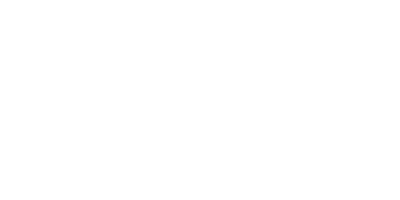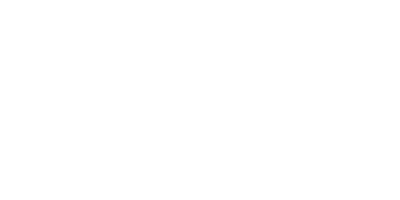9 апреля 1989 года. Тбилиси. Изначально митинг носил анти- абхазский характер, но постепенно приобрел анти-советскую направленность. Для разгона демонстрации в центре Тбилиси была впервые апробирована в период «Перестройки» так называемая «войсковая операция» (десантные войска) в ходе которой были убиты 14 человек, в частности, некоторые из них зарублены саперными лопатками. Операцию разрабатывал ныне действующий депутат, генерал армии Игорь Родионов. Исполнял операцию Александр Лебедь (погиб в авиа-катастрофе в Красноярском крае). Первый секретарь ЦК КПСС Грузии Патиашвили счел своим долгом уйти в отставку. Действительно по собственному желанию. Некоторое время город был под контролем советский войск генерала Родионова. Для разъяснительной работы с населением в столицу Грузии прибыл министр иностранных дел СССР Шеварнадзе.
9 апреля 1989 года. Тбилиси. Изначально митинг носил анти- абхазский характер, но постепенно приобрел анти-советскую направленность. Для разгона демонстрации в центре Тбилиси была впервые апробирована в период «Перестройки» так называемая «войсковая операция» (десантные войска) в ходе которой были убиты 14 человек, в частности, некоторые из них зарублены саперными лопатками. Операцию разрабатывал ныне действующий депутат, генерал армии Игорь Родионов. Исполнял операцию Александр Лебедь (погиб в авиа-катастрофе в Красноярском крае). Первый секретарь ЦК КПСС Грузии Патиашвили счел своим долгом уйти в отставку. Действительно по собственному желанию. Некоторое время город был под контролем советский войск генерала Родионова. Для разъяснительной работы с населением в столицу Грузии прибыл министр иностранных дел СССР Шеварнадзе.
 11-14 апреля 1989 года. Тбилиси. Сейчас я думаю, что это было время когда прогрессивная журналистика победила уже значительно ослабленную мощь советской цензуры. Однако, советская пресса была все еще централизована и напоминала нечто похожее на нынешнюю «вертикаль власти». Только это была и до сих пор есть, как принято иронизировать — «четвертое сословие»… Региональные и республиканские масс-медиа не имели возможности и «дозволения» делать оригинальные материалы с тех событий, которые не имели отношения к региону или республике. Они могли лишь использовать сводки ТАСС или перепечатывать статьи центральных газет и журналов. Чтобы сломать эту советскую систему некоторые редакторы (в республиках Балтии, некоторых автономиях и областях), на свой страх и риск, отправляли корреспондентов на наиболее значимые события, которые происходили в стране во времена «Перестройки».
11-14 апреля 1989 года. Тбилиси. Сейчас я думаю, что это было время когда прогрессивная журналистика победила уже значительно ослабленную мощь советской цензуры. Однако, советская пресса была все еще централизована и напоминала нечто похожее на нынешнюю «вертикаль власти». Только это была и до сих пор есть, как принято иронизировать — «четвертое сословие»… Региональные и республиканские масс-медиа не имели возможности и «дозволения» делать оригинальные материалы с тех событий, которые не имели отношения к региону или республике. Они могли лишь использовать сводки ТАСС или перепечатывать статьи центральных газет и журналов. Чтобы сломать эту советскую систему некоторые редакторы (в республиках Балтии, некоторых автономиях и областях), на свой страх и риск, отправляли корреспондентов на наиболее значимые события, которые происходили в стране во времена «Перестройки».
Я тогда только начинал снимать. У меня в запасе было всего лишь два репортажа: один из «Дома престарелых», другой с землетрясения в Армении. Мне было, черт возьми, двадцать четыре года и я хотел быть настоящим репортером. Узнать о том, что произошло в Тбилиси ночью 9 апреля было невозможно из советских масс-медиа. Как правило, реальные новости узнавали по радио «Свобода» или из других «вражеских голосов».
Главный редактор «Вечерняя Казань» Андрей Гаврилов (Народный депутат СССР) из собственного кармана выделил мне две сотни рублей, помог достать билет на самолет «Казань-Тбилиси» и утром 11-го апреля я был в столице Грузии.
Город был закрыт. Комендантский час. Особенно закрыт для западных журналистов, а советским из централь ной прессы требовалось специальное разрешение присутствовать и заниматься там своей профессиональной деятельностью. В аэропорту меня встретил военный патруль и грузинская милиция. Я не обладал каким-либо опытом в подобных ситуациях и сразу подумал: сейчас вышлют обратно, к чертовой матери.
ной прессы требовалось специальное разрешение присутствовать и заниматься там своей профессиональной деятельностью. В аэропорту меня встретил военный патруль и грузинская милиция. Я не обладал каким-либо опытом в подобных ситуациях и сразу подумал: сейчас вышлют обратно, к чертовой матери.
Однако, еще до контрольного пункта, ко мне подошел грузинский милиционер и спросил: «Ты журналист?» Я примерно секунду думал что ответить и, на свой страх и риск, сказал «да». Удивительно, милиционер молча взял меня за рукав и повел в здание вокзала, минуя проверку. Уже в зале ожидания дал совет: «Возьми такси и езжай в город. Иначе тебя арестуют». Так я попал в Тбилиси.
Гостиница «Иверия» была окружена танками и солдатами. Я без особых проблем вошел внутрь и обратился к администратору. «Вы кто?», — спросил меня грузин за стойкой администрации «Интуриста». «Фотожурналист», — ответил я. «Разрешение есть? — спросил он. «Нет», — ответил я. «Тогда вам лучше уйти от сюда…» — посоветовал он.
Идти мне было некуда, разве что на улицу и я стоял у двери отеля, раздумывая что предпринять, когда ко мне подошла тучная женщина, одетая во все черное и сказала: «Вы ведь журналист… идите за мной, я устрою вас в гостиницу». Это было как в сказке. Я следовал за ней. Солдаты не обращали на меня никакого внимания. Она провела меня на седьмой этаж, отдала ключ от комнаты и, как бы продолжая разговор добавила: «Пока живите здесь. Пропуск я занесу позже. Как ваша фамилия?» … За проживание в гостинице «Интурист» денег с меня не взяли. Я был первый раз в Тбилиси и сразу влюбился в этот город.
что предпринять, когда ко мне подошла тучная женщина, одетая во все черное и сказала: «Вы ведь журналист… идите за мной, я устрою вас в гостиницу». Это было как в сказке. Я следовал за ней. Солдаты не обращали на меня никакого внимания. Она провела меня на седьмой этаж, отдала ключ от комнаты и, как бы продолжая разговор добавила: «Пока живите здесь. Пропуск я занесу позже. Как ваша фамилия?» … За проживание в гостинице «Интурист» денег с меня не взяли. Я был первый раз в Тбилиси и сразу влюбился в этот город.
Первую ночь я не мог спать. Это было нечто, что раньше я видел лишь в кино или по телевизору — полный военный контроль над городом ночью и, какой-то внутренний, уже сломленный, но протест народа днем. Комендантский час. Я сидел у открытого окна и глазел на улицу. Пусто. Только время от времени проезжали БМП, клацая по асфальту гусеницами или БэТРы — рычали выхлопными трубами. Иногда проходил патруль, человек по десять-двенадцать, строем по два человека, с длинными антеннами раций, в «брониках», с касками на головах и с оружием наперевес. Чувства меня переполняли. Это была весна. Моя первая «военная» весна.
 Забавно сейчас вспоминать. В 1994 году в Сараево, я был знаком с одним молодым американским журналистом, даже не помню как его зовут и он впервые приехал на войну. В Боснию. От обстрела мы прятались в подвале гостиницы «Холидей инн», там же и жили, но после каждого взрыва, он все время приговаривал: «Ах-ох, первая война — как первая женщина». Смешно, но я просто хочу объяснить спектр чувств, которые я переживал в Тбилиси в возрасте 24-х лет… Потом была война с Осетией, Абхазией, был Гамсахурдия и полу-военный Тбилиси. Но это было начало. Как первый коктель.. после которого почти всегда начинается пьянство.
Забавно сейчас вспоминать. В 1994 году в Сараево, я был знаком с одним молодым американским журналистом, даже не помню как его зовут и он впервые приехал на войну. В Боснию. От обстрела мы прятались в подвале гостиницы «Холидей инн», там же и жили, но после каждого взрыва, он все время приговаривал: «Ах-ох, первая война — как первая женщина». Смешно, но я просто хочу объяснить спектр чувств, которые я переживал в Тбилиси в возрасте 24-х лет… Потом была война с Осетией, Абхазией, был Гамсахурдия и полу-военный Тбилиси. Но это было начало. Как первый коктель.. после которого почти всегда начинается пьянство.
Днем я работал. Пытался работать. В первый же день, почти сразу, отобрали пленку, когда я попытался снять патруль. Хотели даже арестовать, но это было на проспекте Руставели и вокруг нас моментально возникло множество людей, которые не зная меня, стали выступать в мою поддержку и защиту. Патруль не мог противостоять им. Они боялись этого самого «сломленного протеста», который чувствовали не хуже меня.
Так я очень быстро понял когда можно снимать военных, а когда не стоит, тем более если ничего не происходит вокруг. Было достаточно одной проверки документов и я был бы депортирован, как это случилось с некоторыми журналистами. Но люди удивительно оберегали нас. Несмотря на всю цензуру, ложь и пропаганду в советских масс-медиа, они верили нам, что мы расскажем о реальных событиях в своих газетах и журналах. Они сами хотели быть причастны к этой невероятной «вере в свободу слова». Они от руки или на печатных машинках писали обращения или просто листовки и передавали друг другу.
происходит вокруг. Было достаточно одной проверки документов и я был бы депортирован, как это случилось с некоторыми журналистами. Но люди удивительно оберегали нас. Несмотря на всю цензуру, ложь и пропаганду в советских масс-медиа, они верили нам, что мы расскажем о реальных событиях в своих газетах и журналах. Они сами хотели быть причастны к этой невероятной «вере в свободу слова». Они от руки или на печатных машинках писали обращения или просто листовки и передавали друг другу.
 Была и другая причина столь уважительного отношения к журналистам. Это Юрий Рост. Он был настоящим героем Тбилиси и был первым, кто напечатал в местном «Комсомольце» репортаж о трагической ночи 9 апреля. Большинство тиража ушло под нож. Но это Тбилиси и сотни, если не тысячи, газет попали в город. То что сделал Рост — было действительно журналистское мужество. Он даже был вынужден временно скрываться в городе. Только спустя несколько дней вышли репортажи в «Московских новостях» (редактор Егор Яковлев), «Огоньке» (редактор Виталий Коротич) и в «Вечерней Казани» (редактор Андрей Гаврилов).
Была и другая причина столь уважительного отношения к журналистам. Это Юрий Рост. Он был настоящим героем Тбилиси и был первым, кто напечатал в местном «Комсомольце» репортаж о трагической ночи 9 апреля. Большинство тиража ушло под нож. Но это Тбилиси и сотни, если не тысячи, газет попали в город. То что сделал Рост — было действительно журналистское мужество. Он даже был вынужден временно скрываться в городе. Только спустя несколько дней вышли репортажи в «Московских новостях» (редактор Егор Яковлев), «Огоньке» (редактор Виталий Коротич) и в «Вечерней Казани» (редактор Андрей Гаврилов).
 Публикация в газете «Вечерняя Казань» готовилась очень быстро. Это должна была быть полностью четвертая (последняя) полоса. В редакции официально сидел цензор. Цензор был связан с КГБ, военными и партийными органами. Он сразу предъявил претензии к опознавательным знакам на военной форме, к номерам на танках и тп. Сказал это запрещено публиковать в силу «секретности» и я могу попасть под статью «о разглашении государственной тайны», в чем меня цензор мило предупредил. Он был не плохой человек. Кроме того — журналист.
Публикация в газете «Вечерняя Казань» готовилась очень быстро. Это должна была быть полностью четвертая (последняя) полоса. В редакции официально сидел цензор. Цензор был связан с КГБ, военными и партийными органами. Он сразу предъявил претензии к опознавательным знакам на военной форме, к номерам на танках и тп. Сказал это запрещено публиковать в силу «секретности» и я могу попасть под статью «о разглашении государственной тайны», в чем меня цензор мило предупредил. Он был не плохой человек. Кроме того — журналист.
Горком партии (Камиль Исхаков, ныне зам. министра и бывший представитель президента на Дальнем Востоке) был принципиально против публикации. Если я разговаривал только с цензором, то на редактора Гаврилова было жуткое давление со всех сторон. Ультиматум был простой: газета принадлежит Горкому, если вы печатаете, то мы закрываем газету. Но Гаврилов предложил удивительный компромисс: мы не будем печатать, но газета выйдет с пустой полосой, только с одним заголовоком: «Трагические дни в Тбилиси». Я уже не помню всех деталей переговоров, но газета вышла с полным материалом. Скандал случился почти сразу. Часть читателей не верило, что такое возможно, другая часть — поздравляла с победой «свободы слова» в Казани. Это было удивительное время когда журналисты понимали, что читатели им верят.
Сейчас, почти девятнадцать лет назад, я просто пытаюсь сравнивать и мне, все-таки, кажется, если люди действительно хотят что-то изменить, заставить власть хотя бы элементарно уважать человека, люди действительно могут это сделать. Они могут это сделать даже не потому, что у них есть более демократические, либеральные, национальные или черт знает какие идеи. Нет, совсем нет. Вполне достаточно, если у людей есть чувства, очень простые: чувство собственного достоинства, сострадания и веры в справедливость. В Грузии это есть.
Фото: Олег Климов, Тбилиси-1989
P.S. Вскоре после Путча 1991 года главный редактор газеты «Вечерняя Казань» Андрей Гаврилов умер. Почти весь коллектив редакции был вынужден, рано или поздно, уволиться. В настоящее время газета «Вечерняя Казань» мало чем отличается от множества остальных. Впрочем как и газета «Московские новости» или журнал «Огонек».
Свобода слова — 1989 17 января, 2008Oleg Klimov


 «И пьяные с глазами кроликов in vino veritas (истина в вине) кричат». Кто-то мне уже советовал: бросить к черту фотографию и найти другую работу. Я нашел альтернативу на которую бы променял фотографию — быть вайнмэйкером или виноделом по-нашему. Настоящих виноделов у нас еще меньше (утеряны традиции) чем настоящих фотографов и в силу модности их теперь называют вайнмэйкерами. Круто. Был фрилансом стал вайнмэйкером. Попробуй понять кто ты есть на самом деле.
«И пьяные с глазами кроликов in vino veritas (истина в вине) кричат». Кто-то мне уже советовал: бросить к черту фотографию и найти другую работу. Я нашел альтернативу на которую бы променял фотографию — быть вайнмэйкером или виноделом по-нашему. Настоящих виноделов у нас еще меньше (утеряны традиции) чем настоящих фотографов и в силу модности их теперь называют вайнмэйкерами. Круто. Был фрилансом стал вайнмэйкером. Попробуй понять кто ты есть на самом деле. Джон — серб, родился в Австралии, живет в Лондоне. Работает везде. Маршрут примерно такой: Автралия — Россия — Болгария — Индия — …Англия. В каждой стране 2-3 дня. Самолет и дальше. Полномочия самые широкие. Пьет вино. Говорит что это не вино, а помои и «приказывает» туда добавить чего-нибудь кроме воды и сахара. Потом опять пьет. Пьют все. Даже с утра. Губы у Джона черные от вина. В отличие от многих выглядит весьма трезвый. Очевидно — профессионал. Соответственно гонорар. Отличная профессия!
Джон — серб, родился в Австралии, живет в Лондоне. Работает везде. Маршрут примерно такой: Автралия — Россия — Болгария — Индия — …Англия. В каждой стране 2-3 дня. Самолет и дальше. Полномочия самые широкие. Пьет вино. Говорит что это не вино, а помои и «приказывает» туда добавить чего-нибудь кроме воды и сахара. Потом опять пьет. Пьют все. Даже с утра. Губы у Джона черные от вина. В отличие от многих выглядит весьма трезвый. Очевидно — профессионал. Соответственно гонорар. Отличная профессия!  Однако приглашать надо не только иностранных виноделов, но похоже, менять все технологии производства. По крайней мере чтобы пробки в бутылки хоть бы не кувалдой забивали. А еще лучше пригласить и тот народ, который пить может. Чо-нибудь еще кроме паленой водки.
Однако приглашать надо не только иностранных виноделов, но похоже, менять все технологии производства. По крайней мере чтобы пробки в бутылки хоть бы не кувалдой забивали. А еще лучше пригласить и тот народ, который пить может. Чо-нибудь еще кроме паленой водки.