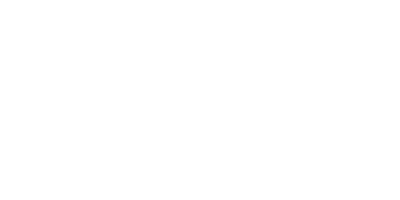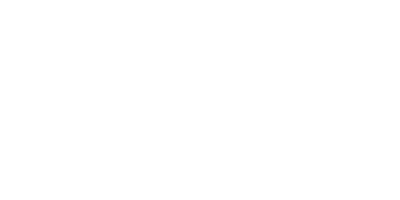Это реальная фотография Александра Родченко с Беломорканала. В годы сталинской тирании один из методов пропаганды (в том числе ГУЛАГов) был фотомонтаж… что сейчас считается искусством. Интересно знать пропагандистские фильмы и фотографии, организованные Геббельсом, тоже можно считать искусством? В конце концов говорят же на Западе: Лени Рифенштайн была художник, но к сожалению она была фашистка. Однако она не догадалась снять фильм или серию фотографий, например, из Освенцима. Почему? Я думаю, что у любого художника есть граница, переходя которую, он перестает быть художником. Становится винтиком тех самых «конструкций», которые хорошо выглядели на бумаге, а в жизни стали причиной миллионов жертв. Конструкции ГУЛАГов принадлежат не столько Сталину, Ежову, Берии или Натану Френкелю, а так называемым «инженерам человеческих душ» — писателям, художникам и фотографам тех лет. Но мне почему то кажется, что они ощущали себя не художниками, они думали о себе как о «новых демиургах»…. (в противном случае не изображали бы свои «конструкции» на иконных досках как, например, композиция Родченко №100 в Пушкинском музее за 1920 год. Так легко нарисовать на иконе… звучит как «здесь был Вася». Просто пошло… ) Мы уже и в наше время перепутали такие понятия как «знания и убеждения», в данном случае понятия «искусство и совесть». Да и надпись Arbeit macht frei (Труд делает свободным) впервые появилась не на воротах Освенцима, а на Соловках. В том числе и из Соловков свозили на канал заключенных и там же расстреливали… Только смерть делает нашего человека свободным.
Это реальная фотография Александра Родченко с Беломорканала. В годы сталинской тирании один из методов пропаганды (в том числе ГУЛАГов) был фотомонтаж… что сейчас считается искусством. Интересно знать пропагандистские фильмы и фотографии, организованные Геббельсом, тоже можно считать искусством? В конце концов говорят же на Западе: Лени Рифенштайн была художник, но к сожалению она была фашистка. Однако она не догадалась снять фильм или серию фотографий, например, из Освенцима. Почему? Я думаю, что у любого художника есть граница, переходя которую, он перестает быть художником. Становится винтиком тех самых «конструкций», которые хорошо выглядели на бумаге, а в жизни стали причиной миллионов жертв. Конструкции ГУЛАГов принадлежат не столько Сталину, Ежову, Берии или Натану Френкелю, а так называемым «инженерам человеческих душ» — писателям, художникам и фотографам тех лет. Но мне почему то кажется, что они ощущали себя не художниками, они думали о себе как о «новых демиургах»…. (в противном случае не изображали бы свои «конструкции» на иконных досках как, например, композиция Родченко №100 в Пушкинском музее за 1920 год. Так легко нарисовать на иконе… звучит как «здесь был Вася». Просто пошло… ) Мы уже и в наше время перепутали такие понятия как «знания и убеждения», в данном случае понятия «искусство и совесть». Да и надпись Arbeit macht frei (Труд делает свободным) впервые появилась не на воротах Освенцима, а на Соловках. В том числе и из Соловков свозили на канал заключенных и там же расстреливали… Только смерть делает нашего человека свободным.
В монтаже Родченко под катом, скорее всего, совмещены несколько фотографий, но таким образом, чтобы создавалась видимая реальность. Однако текст выдает фальсификацию и искажение этой самой реальности так как присутствует несоответствие угла съемки основного кадра и дополнительных. Но текст важен: «Тот, кто не участвует в этом победном все сокрушающем шторме, всех имеющихся трудностях — не может считаться ударником Беломорстроя». Фотографии опубликованы в журнале «СССР на стройке». Я решил тоже стать «ударником» и поехал на Беломорканал ))
 P.S. Из «тайных дневников» писателя Михаила Пришвина, который самостоятельно путешествовал в районе Канала, также снимал, думаю не хуже «классика», но, понятно, фотографического бренда у Пришвина нет, но остался «бренд совести». Негативы он прятал и хранил в отдельных конвертиках. Потом прятали его наследники. Очерки Пришвина о Беломоре не были опубликованы в рамках пропаганды — не соответствовали идеи:
P.S. Из «тайных дневников» писателя Михаила Пришвина, который самостоятельно путешествовал в районе Канала, также снимал, думаю не хуже «классика», но, понятно, фотографического бренда у Пришвина нет, но остался «бренд совести». Негативы он прятал и хранил в отдельных конвертиках. Потом прятали его наследники. Очерки Пришвина о Беломоре не были опубликованы в рамках пропаганды — не соответствовали идеи:
«Канал — это придумка, предлог, чтобы замучить и покончить с человеком свободным»
«Нечто страшное постепенно доходит до нашего обывательского сознания, это — что зло может оставаться совсем безнаказанным и новая ликующая жизнь может вырастать на трупах замученных людей и созданной ими культуры без памяти о них». Из дневника писателя, 1930
9 апреля 1930
Князь сказал: Иногда мне бывает так жалко родину, что до физической боли доходит. Фотографировал весну: снег с летними облаками, снег на глазах рождает воду, и летние облака уже спешат отразиться в этой мутной воде. Летят журавли…
Мальчишка потребовал: Сними меня! Я промолчал. Он лезет. — Убирайся! — сказал я. Он отстал и камнем меня в затылок, меня, старика, собиравшего материалы для детских рассказов. Что было делать? Он пустился бежать во весь дух. Сверху видели два молодых человека. Я им пожаловался. Они не отозвались даже… Вот так и съел камень.
Конечно, такие мальчишки всегда были, но боли такой не было в душе, и потому камень нынешнего времени гораздо больнее ударил. Боль небывалая. И некуда с ней прислониться, как раньше бывало («некому слезу утереть»). Бывало, все надеемся: вот переможем, нажмем и будет лучше. Главное тогда (хотя бы при Ленине) думалось, что можно смириться, по-человечески кому-то рассказать и поймут, и заступятся. Теперь некому заступиться. И вовсе пропади — совсем не отзовутся, потому что мало ли пропало всяких людей и пропадает каждый день.